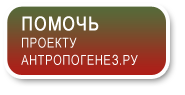К тому же, любой язык не одинок, у него есть родственники. И если говорить о происхождении слова, то круг его «ближайшей родни» обязательно нужно знать... Но для лингвистов-любителей этот объём информации слишком велик. Они обычно открывают какой-нибудь (случайно попавшийся им под руку) словарь, и дают волю ассоциациям. Кто-то открыл латинский словарь и увидел, что многие слова похожи на русские. Кто-то открыл арабский словарь – и тоже нашёл много слов, которые при большом желании можно счесть похожими на русские... Кто ищет - тот, как говорится, всегда найдёт. Но поскольку «похожие» слова с равной лёгкостью обнаруживаются где угодно, то цена этим бессистемным «находкам» грош. А вообще про таких горе-лингвистов и про то, как их отличать от нормальных исследователей, можно подробно прочитать в книге Андрея Анатольевича Зализняка «Из заметок о любительской лингвистике» (М.: Русский Миръ, 2010. Серия: Литературная премия Александра Солженицына).
Каким образом можно изучать происхождение языка? Вот например по костям мы можем изучать, как и когда возникло прямохождение. А язык?
– Да, действительно, речь не оставляет ископаемых следов (если не считать письменности – но письменность появляется около 5 тысячелетий назад и фиксирует уже вполне сформировавшийся язык). Поэтому приходится судить по косвенным данным – примерно так же, как по костям Арди определяют, какие социальные отношения были характерны для ардипитеков. А косвенных данных, как выясняется, немало, в самых разных науках, надо только собрать их, как собирают паззл – чтобы все фрагменты аккуратно подходили друг к другу и вместе образовывали внятную картину. И когда получаемые новые сведения не требуют полной перестройки всего, а аккуратно ложатся в хорошо понятное место, стыкуясь с тем, что уже есть, понимаешь, что концепция правильна.
Для того, чтобы исследовать происхождение языка, надо, во-первых, очень хорошо понимать, как устроен человеческий язык – без этого просто не определить, что же, собственно, «произошло». Во-вторых, надо представлять себе, какими анатомическими и физиологическими особенностями всё это обеспечивается – а это уже частично можно проследить по ископаемым останкам. Например, мы видим, что в гоминидной линии наблюдается рост мозга в тех местах, где у нас «речевые зоны» – зона Брока и зона Вернике. Конечно, у обезьян на этих местах тоже не дырки, но если эти зоны растут, и у нас они связаны с речью – то значит, с какого-то момента они растут не просто так.
Далее, необходимо изучать системы коммуникации у различных видов животных – и для того, чтобы представлять себе ту основу, на которой базировалось происхождение языка, и для того, чтобы видеть, как эволюционируют коммуникативные системы, с чем связано появление у них тех или иных свойств. И тут мы видим, что у общественных видов коммуникативная система есть всегда – у пчёл, у муравьёв, у волков, у дельфинов, у приматов... Значит, и у гоминид она должна была быть в любом случае. И такого, чтобы наши предки, бедные, сидели у костра и совсем никак ни о чём не могли договориться, точно не могло быть. Иное дело, что многие коммуникативные системы животных пока не поддаются расшифровке. И чем более развитая система, тем хуже она расшифровывается. Вот, у дельфинов, например...
- Некий деятель сказал, что у дельфинов словарный запас больше чем у человека.
– На самом деле, там не очень понятно, как выделять слова. Это и в человеческом-то языке, честно говоря, не всегда понятно. Вот, например, русское числительное «пятьдесят» – это сколько слов? Вроде бы одно, не правда ли? У него одно ударение, в быстром произношении часто «съедается» середина (получается что-то вроде «пиисят»), никакое слово нельзя вставить внутрь, и даже паузой нельзя разделить – значит, одно слово. А теперь начнём его склонять: пятидесяти, пятьюдесятью... Разве бывает, чтобы слово в двух местах склонялось, а корень после окончания шёл? И так в любом языке – есть простые случаи, а есть не очень.
Но вернёмся к приматам. Как выясняется, между коммуникативными системами современных человекообразных обезьян и языком человека есть кардинальная разница: человеческое общение построено по преимуществу на явных знаках и обращено в первую очередь к сознанию, а обезьянье – на том, что называется «невербальной коммуникацией», и обращено скорее к подсознанию. З.А. Зорина и А.А. Смирнова в своей книге «О чём рассказали говорящие обезьяны» приводят такой любопытный эпизод: супруги Роджер и Дебора Футс, наставники шимпанзе Уошо, обученной американскому жестовому языку, решили познакомить Уошо со своими детьми. И когда они однажды спросили у Уошо про свою дочь: «КТО ЭТО?», шимпанзе ответила: «РЕБЁНОК РОДЖЕРА И ДЕББИ». Для Футсов это была полнейшая неожиданность – они были уверены, что им удаётся на работе вести себя не как супруги, а как коллеги. Но шимпанзе не обманешь – невербальную составляющую коммуникации они улавливают лучше, чем люди.
У человека эта невербальная составляющая тоже есть, она никуда не исчезла, но всё же основную часть информации о мире мы получаем через явные знаки, и именно такая информация кажется нам наиболее надёжной. При наличии выбора люди скорее сочтут начальством не обладателя громкого и уверенного голоса, а человека, сидящего в кабинете с надписью «Директор». Даже любовь многие люди не считают окончательно установленным фактом, пока не услышат «Я тебя люблю», — и это при всей той колоссальной роли, которую играют в данной сфере невербальные средства.
-Т.е. вы хотите сказать, что у приматов такого вообще нет? Они же могут друг другу сказать: «Пошли кушать» и т.п…
– Это пока не очень понятно, могут или нет. Широко известны опыты Э. Мензела. Он показывал одному из шимпанзе тайник с фруктами, тот возвращался к своей группе – и все шимпанзе устремлялись к тайнику, могли даже обогнать обладателя информации. Но что он делал, как добивался у своих сородичей такого понимания, – установить так и не удалось. А понимание было, действительно, изумительным: если одному шимпанзе показывали тайник с фруктами, а другому – с овощами, обезьяны не колеблясь выбирали первый.
- Вроде бы Джейн Гудолл писала, что шимпанзе друг другу знаки какие-то подают. И если их научить, они научаются.
– Да, действительно, та же Уошо научила своего приёмного сына Лулиса некоторому количеству знаков амслена (американского жестового языка). Но всё же шимпанзе гораздо хуже людей передают полученные навыки. Вот, например, Вы наверняка обладаете языковыми познаниями не меньшими, чем Ваша мама, правда? Ваш словарный запас сравним с её. А Лулис выучил всего 55 знаков, тогда как Уошо знала их сильно больше сотни.
В природе шимпанзе, конечно же, подают друг другу знаки – но эти знаки ориентированы в первую очередь на эмоции. Дж. Гудолл описывает случай, когда в группе шимпанзе, за которой она наблюдала, появилась самка?каннибалка, Пэшн, поедавшая чужих детенышей. Самке Мифф удалось спасти своего детеныша от Пэшн, и впоследствии, когда она встретилась с Пэшн не один на один, а в компании дружественных самцов, Мифф выказала сильное возбуждение и смогла донести до самцов идею, что Пэшн очень, очень нехорошая и её надо наказать, — по крайней мере, самцы, увидев поведение Мифф, устроили Пэшн агрессивную демонстрацию. Но что в точности произошло, Мифф сообщить не смогла – в противном случае самцы бы, наверное, не ограничились демонстрацией, а выгнали бы Пэшн из группы или, по крайней мере, предупредили бы об опасности дружественных им самок. Но для такой чёткой передачи информации невербальная система не годится.
К. Слокомбе и К. Цубербюлер показали, что у шимпанзе различаются пищевые крики на яблоки и на плоды хлебного дерева. По крайней мере, после проигрывания магнитофонной записи обезьяны проводили более интенсивные поиски под тем деревом, на плоды которого указывал услышанный ими крик. Но опять же, непонятно, то ли это знаки с конкретным значением, то ли просто эмоциональные сигналы – в конце концов, мы ведь тоже можем про разные вещи сказать «Ах, какая вкуснятина!» с разной интонацией.
Явные знаки, обращённые к сознанию, имеют перед эмоциональными сигналами то преимущество, что позволяют освободить мышление от излишних эмоций. Сара Бойзен и ее коллеги провели эксперимент: испытуемому предлагали выбрать из двух кучек конфет б?льшую или меньшую, но при этом выбранное потом отдавали другому. Нетрудно догадаться, что в такой ситуации (пронаблюдав разок-другой поведение экспериментатора) выгодно схитрить и выбрать меньшую кучку. Но обезьяны и дети младше двух лет до такой хитрости не догадывались: раз за разом они выбирали б?льшую и раз за разом огорчались. А вот шимпанзе, которым предлагались не сами конфеты, а цифры (их заранее научили, какое начертание какому количеству соответствует), оказывались в состоянии сделать выбор, опираясь на «сознание», а не на эмоции: выбирали меньшее количество конфет, чтобы большее оставить себе.
Языковой знак не существует отдельно от мышления – как говорит нейролингвист Т.В. Черниговская, в мозге связано всё со всем. Мозг же специально устроен так, чтобы интегрировать всю доступную информацию о мире и запускать оптимально соответствующие этому поведенческие программы. Зайцу, чтобы начать спасаться от лисы, нет нужды познавать лису во всей её полноте – ему достаточно очень небольшого количества информации (мимолётного шороха, слабого запаха, на секунду мелькнувшего рыжего пятна) – и он уже бросается наутёк. Слово просто добавилось к этим информационным связям, как ещё одна возможность получить информацию о внешнем мире. И благодаря тому, что языковые знаки не связаны напрямую с эмоциями, мы можем, услышав слово, не реагировать сразу, а сначала подумать – и выбрать более оптимальный способ поведения. Для того, чтобы можно было подумать, сопоставить несколько кусочков информации, нужны лобные доли мозга – и в гоминидной линии мы видим их постепенное увеличение. Конечно, напрямую о развитии языка по ним судить нельзя, но, по крайней мере, мы можем сказать, что спрос на развитие такой коммуникативной системы, которая будет давать больше информации, с ростом лобных долей должен был расти. А тем, кому думать нечем, система, способная передавать много информации, совершенно не нужна – им более выгодно полагаться на эмоции.
У психолога Робина Данбара есть известная «гипотеза груминга»: мозг такого размера, как у нас, позволяет поддерживать существование коллектива в 150 особей, и если для гармонизации социальных отношений в таком коллективе использовать, как обезьяны, груминг, то придётся вычёсывать голову ближнему своему примерно 40% суток, и на другие жизненно важные вещи времени просто не хватит. По гипотезе Данбара, язык возник в качестве замены грумингу. Но я, честно говоря, скептически отношусь к этой идее. Во-первых, средство для снятия социальной напряженности – даже при помощи голоса – могло бы быть и не таким затратным, как членораздельная речь, — для этого вполне хватило бы нечленораздельной речи (с богатым варьированием интонаций) или пения, да и возможность составлять синтаксические конструкции с согласованием, падежным маркированием, структурой составляющих и т.д. для гармонизации социальных отношений едва ли особенно необходима. Волки же воют без всякого синтаксиса – и это вполне обеспечивает сплочённость группы. А во-вторых, до эпохи земледелия, пока люди жили охотничье-собирательскими общинами, коллективов размером в 150 человек просто не было! Иное дело, что язык (в отличие от груминга) даёт возможность развивать не только групповую, но и межгрупповую кооперацию, так что человек, оказавшийся на территории другой общины, может во многих случаях рассчитывать на тёплый приём, разные общины могут вместе отмечать ритуальные праздники, обмениваться невестами и т.п. И для этого очень пригождаются явные, хорошо заметные знаки – всякие подвески из зубов, узоры на теле или на одежде, шляпы с орлиными перьями...
- Возможно, Homo erectus общались с помощью языка жестов…
– Тут весь вопрос в том, что значит «язык». Какими-то жестами эректусы, несомненно, в общении пользовались – так делают и современные обезьяны. Но вот можно ли это назвать языком? Дело в том, что определения языка не существует. Интуитивно очевидно, что то, на чём мы сейчас с Вами говорим, – это язык. А, скажем, мычание быков – это не язык. Но что делать со всяческими промежуточными системами? Вот, например, ребёнок говорит «киса мяу» – это уже язык или ещё нет? И если «не совсем язык» – то насколько? Ребёнок проходит путь от полного невладения языком к полному владению, но при этом невозможно указать конкретный день появления языка (так, чтобы его можно было потом отмечать подобно дню рождения). И вполне вероятно, что если бы мы отправились на машине времени от ардипитеков к сапиенсам, мы бы наблюдали ту же картину – постепенно, без чётко выделимых разрывов в последовательности, система коммуникации становилась бы всё ближе и ближе к настоящему языку.
Мне кажется, что здесь непременно должна была иметь место ко-эволюция: взаимное приспособление друг к другу мозга и коммуникативной системы, прилаживание всего жизненного уклада к тому, что есть вот такая коммуникативная система с богатыми возможностями – и развитие возможностей этой системы в зависимости от уклада жизни. С какого-то момента даже индивидуальное развитие перестраивается так, чтобы дети как можно быстрее и успешнее овладевали языком.
Когда появляется спрос на большее количество информации, которое хочется учесть, чтобы выбрать наиболее оптимальную поведенческую программу, выигрыш начинают получать те группы, члены которых помнят больше сигналов. Значит, отбор начинает благоприятствовать тому, чтобы гоминиды с самого раннего детства хотели и могли эти сигналы запоминать. Какие сигналы, кстати – неважно, можно звуковые, а можно и жестовые.
Когда какой-то знак возникает впервые, он должен быть иконичным, то есть, похожим на то, что он обозначает, – это необходимо, чтобы его поняли прямо сразу, без подготовки. Но когда сигналы начинают часто повторяться и все к ним привыкают, то сходство формы и смысла становится уже не столь обязательным, главное – чтобы адресат сообщения понял, что это именно данный сигнал, а не другой. Для этого важно максимально чётко воспроизводить те элементы сигнала, которые отличают его от других, – и сигналы оказываются разделены на элементарные составляющие, не имеющие собственного значения. И получается то, что называется «двойным членением»: из знаков можно составлять более крупные знаки (из корней, суффиксов и т.п. – слова, из слов – предложения), а самые простые знаки делятся на незначащие элементы. Так слова современных языков делятся на звуки, иероглифы – на черты, а жесты языков глухонемых – на так называемые «хиремы». Одна и та же конфигурация руки при разных движениях, при добавлении мимики и т.д. передаёт совершенно разные смыслы. Например, «коза рогатая» при движении сверху вниз (как бы очерчивая раму) обозначает «окно», а при движении снизу вверх (как бы взлетая) – «самолёт». А если эта «коза» покачивается на подставленной второй руке, получается «мышка».
Надо сказать, что вопреки распространённому заблуждению, знаки жестовых языков – это по большей части слова, а не буквы. Знаки-буквы, конечно, тоже есть, если понадобится рассказать, например, о новом президенте США, то его имя, конечно, передадут «буквами». Но в обычной речи чаще всего пользуются знаками-«словами».
У М.А. Дерягиной и С.В. Васильева есть замечательно интересная статья про эволюцию коммуникативных сигналов в отряде приматов. По их данным получается, что самые древние сигналы – это сигналы агрессии, которые нужны для того, чтобы предотвратить грубую драку с телесными повреждениями. А потом чем дальше, тем больше появляется дружелюбных сигналов. У шимпанзе они складываются в дружелюбные комплексы коммуникации. Человек продолжает эту эволюционную тенденцию. Человеческий язык буквально пронизан идеей кооперации. Мы так стремимся (даже не осознавая этого) понять друг друга, что оказываемся в состоянии игнорировать «фефекты фикции», можем предположить, что говорящий, сказав одно, имел в виду другое, – и мы приходим ему на помощь: «Вы, наверно, хотели сказать ... ?». Мы ожидаем, что человек будет по умолчанию говорить нам правду (и именно это и позволяет врать: если бы мы не были так настроены верить на слово, мы бы стремились всякую полученную информацию проверять и обнаруживали бы ложь немедленно). Мы ожидаем, что информация, которую нам сообщают, будет релевантна для нас. Например, когда один человек пальцем указывает на что-то другому, весьма вероятно, что этот другой обнаружит там нечто существенное для себя, а не для того, кто указывает. Слова: «Я хочу пить» равносильны прямой просьбе дать воды. Потому что, когда человек говорит «я хочу пить», мы подсознательно проворачиваем в голове примерно такую комбинацию: а с чего это он решил, что мне имеет смысл знать, что он хочет пить? Наверное, чтобы я ему помог.
- У Вас есть Ваша собственная гипотеза возникновения языка?
– Есть (я уже изложила её выше), но я не считаю, что это главное. Одной гипотезой больше, одной меньше. В своей книге о происхождении языка, которая скоро выйдет в издательстве «Корпус», я ставила задачу набрать факты, которые нельзя не учитывать.
Рассказать, как сложно устроен язык. Как устроены коммуникативные системы животных. Как работают наши мозги. Как происходит наследование. Чтобы люди не думали, что одна макромутация в одночасье переформировала нам череп, встроила в мозг «языковую способность», слуховой аппарат настроила на нужные частоты, гортань опустила, и прочее, и прочее. Этого «прочего» столько, что одной мутацией никак не обойтись.
Какую-то информацию о том, что релевантно для происхождения языка, могут дать наблюдения за тем, что происходит вполне в наше время. Например, очень показательна история возникновения никарагуанского жестового языка. Когда в Никарагуа к власти пришли сандинисты, они решили обучать глухих. Собрали всех глухонемых со всех уголков страны в один детдом и стали учить их говорить и читать по губам. Но это оказалось для детей слишком сложно. А поболтать на переменках очень хотелось. И дети – при помощи пантомимы, каких-то отдельных собственного изобретения жестов – стали общаться. Так вот, когда среди учеников появились дети такого возраста, в котором овладение языком ещё не закончилось (примерно 4–5 лет, это ещё входит в «чувствительный период»), а общее число воспитанников перевалило за 200, эта пантомима превратилась в настоящий нормальный жестовый язык. Язык как язык, со словарем, с грамматикой. Дети выработали его сами, причём совершенно ненамеренно – просто так получилось. Но пока их было слишком мало, меньше 200, никакого языка не складывалось. Поэтому, когда говорят, что в результате одной мутации мог родиться эдакий говорящий «хоупфул монстр», мне трудно в это поверить. Тому, кто умеет говорить на порядок лучше остальных, просто не с кем будет общаться. Мне кажется, что для возникновения языка должно быть много – не «монстров», не гениев, а просто людей, индивидов, которые хотят общаться, хотят говорить друг с другом о самом разном, обо всём на свете. И тогда коммуникативная система, которая будет такое позволять, непременно сформируется – без всяких там фантастических персонажей, которые откуда-то берутся и всех учат говорить, без гениев, которые вдохновенно изобретают новые знаки и новые правила, без мыслей о пользе вида, без грандиозных планов на отдалённое будущее... Нужно лишь, чтобы люди хотели друг с другом взаимодействовать, добиваясь каких-то сиюминутных целей, чтобы человеку хотелось что-то сказать – может быть, даже не кому-то конкретно, а как бы «в пространство». Он скажет (может быть, даже ненамеренно, просто вырвется такой эмоциональный возглас) – другие что-нибудь поймут, на ус намотают, запомнят. Если это принесёт какую-то пользу, отбор будет благоприятствовать таким группам, члены которых максимально эффективно сообщают и максимально эффективно понимают. И постепенно средство коммуникации, позволяющее этого добиваться, превратится в настоящий язык. Вот так, наверное...
Беседовал А. Соколов